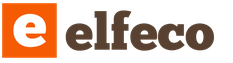Открытие камчатки. Освоение камчатки. Беринг, Витус Йохансен
(1711–1755), ученый и путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, основоположник отечественных и спелеологии, первый российский академик-географ.
Родился в Москве в семье солдата. После окончания Славяно-греко-латинской академии учился в Петербургском университете. Студентом был зачислен во Вторую Камчатскую экспедицию. Сопровождал в 1735–1736 годах И. Гмелина в его поездке по Сибири. На реках Томь и Енисей изучал наскальные изображения, обследовал подземные пустоты на Енисее, став первым российским спелеологом. Описал слюдяные месторождения на побережье Байкала, целебные "теплые" воды в бассейнах рек Баргузин, Онон и Горячая, соляные источники на двух правых притоках Вилюя; проследил степь от Байкала до верховьев Лены и более 2100 километров ее течения - вплоть до Якутска. Затем через Охотск морем направился на Камчатку, на подходе к полуострову потерпел кораблекрушение и оказался на берегу без имущества и снаряжения. Весной 1738 года он начал и с несколькими помощниками из солдат или казаков за три года (до конца 1740 года) завершил всестороннее исследование Камчатки (350 тысяч квадратных километров), буквально искрестив ее широтными и меридиональными маршрутами. Длина пройденного им побережья составила более 1700 километров, а внутренних учтенных маршрутов - свыше 3500 километров. Срединный хребет он проследил почти на 900 километров, то есть на три четверти длины. Он не осмотрел на Камчатке только три ее береговых отрезка: относительно небольшой западный и два коротких - юго-западный и юго-восточный, в общей сложности всего около 700 километров.
Многократное пересечение полуострова дало Крашенинникову основание для характеристики (весьма верной) его рельефа: "...По большей части [он] горист. Горы [Срединный хребет] от южного конца к северу непрерывным хребтом простираются и почти на две равные части разделяют землю; а от них другие горы к обоим морям лежат хребтами... Низменные места находятся только около моря, где горы от оного в отдалении и по широким долинам, где между хребтами знатное расстояние".
Крашенинников описал четыре восточных полуострова Камчатки - Шипунский, Кроноцкий, Камчатский и Озерной, образуемые ими заливы, а также несколько бухт, в том числе Авачинскую. Он проследил течение крупных рек, прежде всего Камчатки (758 километров), охарактеризовал ряд озер, включая Нерпичье и Кроноцкое.
"Что касается до огнедышащих гор и ключей, - писал он, - то едва может сыскаться место, где бы на столь малом расстоянии... такое было их довольство".

Карта-схема маршрутов С. Крашенинникова
в 1737–1741 годах
Крашенинников сам исследовал почти все высочайшие "горелые сопки" Камчатки - , Кроноцкую, и величайший действующий вулкан Евразии - (4688 метров).
Весной 1738 года, посетив долину Паужетки (левый приток Озерной), ученый открыл и впервые описал полуметровые гейзеры, бьющие "во многих местах, как фонтаны, по большей части с великим шумом". Вторую группу гейзеров, выбрасывающих воду на высоту до 1,4 метра, обнаружил в долине Банной (бассейн реки Быстрой). Он исследовал историю освоения Камчатки, писал о природе Курильских и Алеутских островов, привел некоторые данные о Северо-Западной Америке. Помимо географических удалось собрать также обширные этнографические, флористические и зоологические материалы.
Крашенинников один представлял собою комплексную экспедицию, выступая то как геолог и географ, то как ботаник и зоолог, то как историк и этнограф, то как лингвист. В частности, по расспросным данным он составил характеристику ительменского племени, жившего на острове Карагинском (исчезнувшего к XIX веку по невыясненным причинам), а также записал ряд слов из его диалекта. Благодаря Крашенинникову мировая наука обогатилась фундаментальными сведениями об , и айнах, их истории, обычаях, религиозных верованиях и мифологии. Ученый был убежден в том, что Камчатка "к житию человеческому не меньше удобна, как и страны всем изобильные".
В июне 1741 года Крашенинников покинул полуостров и через Сибирь в конце 1742 года вернулся в Петербург. В 1750 году был утвержден профессором натуральной истории и ботаники (академиком), стал ректором Петербургского университета и инспектором Академической гимназии. По свидетельству Г. Миллера, он был "из числа тех, кои ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков и сами достойны называться начальниками своего благополучия".
Занимаясь историей и культурой народов Севера, я периодически слышу вопросы о том, какое отношение я имею к Иосифу Ивановичу Огрызко – человеку, который воспитал не одно поколение советских североведов.
Судьба моего однофамильца
Занимаясь историей и культурой народов Севера, я периодически слышу вопросы о том, какое отношение я имею к Иосифу Ивановичу Огрызко – человеку, который воспитал не одно поколение советских североведов. Признаюсь: долгое время я в ответ лишь пожимал плечами.
Ну что я мог рассказать? Разве что вспомнить, как в году семьдесят втором отец в один из своих отпусков повёл меня и сестру в полуразрушенное Царицыно и на обратном пути решил заглянуть в стоявший на отшибе маленький книжный магазинчик, где глазастая сестра вдруг углядела на какой-то дальней полке небольшую брошюрку, на обложке которой красовалась наша фамилия. Моему удивлению не было предела. Сразу появились вопросы: кто этот Огрызко, откуда он взялся и почему раньше дома его имя не упоминалось?.. Однако отец, похоже, и сам ничего не знал. Кстати, содержание брошюры нас разочаровало. Книга называлась «Дети и религия», и мы так и не поняли, что автор хотел сказать. А потом у отца закончился отпуск. Сестра осталась в Москве. Меня же снова увезли в Магадан. Поэтому брошюра однофамильца вскоре всеми позабылась. Вспомнили в нашей семье про неё лишь через несколько лет, когда начались звонки уже по поводу моих газетных заметок.
Первой откликнулась дочь бывшего варшавского железнодорожного служащего Адама Огрызко – Валерия Волкова. Она после выхода на пенсию посвятила свою жизнь поиску материалов об известном петербургском издателе, юристе и бунтаре Иосафате Огрызко, который одно время был вхож в семью историка Карамзина и пользовался поддержкой Ивана Тургенева и Николая Некрасова, пока его не сослали в далёкую Якутию. Её интересовало, что я знал о своих корнях и не пересекались ли пути моего деда или прадеда с этим Иосафатом.
Потом к моему отцу с письмом обратилась некая Антонина Степановна Горлова. Она случайно прочитала в магаданских газетах несколько моих статей о народах Севера, но решила, что их написал не я, а отец (у нас ведь с ним была не только общая фамилия, нас и звали одинаково – Вячеславами). Горлова писала: «Здравствуйте, уважаемый тов. Огрызко! Пишут Вам из Усть-Омчуга. Я не раз встречала Ваши интересные статьи в обл. газете и журналах. Пишу я Вам ещё и не только потому, что хочу выразить Вам благодарность за Ваши содержательные, интересные статьи «Чувствовать слово», «Истоки…» и др., но и потому что встречаю Вашу фамилию как что-то родное, дорогое, так как я носила эту фамилию 23 года, она так мало встречается. Теперь моя фамилия Горлова. Я 17 лет живу в Усть-Омчуге, работаю балетмейстером при районном доме культуры. Я послала Вашу статью своему брату в Ленинград – Огрызко Иосифу Степановичу. Кстати, он закончил этот же институт имени Герцена, о котором Вы пишете. Там же работал очень долго наш дядя Огрызко И.И. Он был профессором и много писал, у меня есть его книги, но мало, в основном всё у брата. Есть у меня ещё сестра в Киеве – Зоя Степановна Огрызко, но она много лет уже Дубовая. Я знаю, что это, наверно, совпадение, но всякое может быть. И если при Вашей занятости Вы найдёте время, напишете несколько слов, то я Вам буду очень благодарна. Желаю Вам успехов. С уважением, Горлова. 10.VII.85 г.».
Почему отец не откликнулся на это обращение, я не знаю. Он вообще не любил писать письма. Никому. Даже своей маме, родному брату и сёстрам отец лишь звонил, но не писал. И мне он о Горловой долго ничего не говорил. Может, не хотел лишний раз беспокоить.
В общем, всерьёз своими однофамильцами я занялся не сразу. Причём сначала мне в руки попали материалы не о воспитателе североведов, а об издателе, чья необычная судьба как-то натолкнула популярного исторического романиста Валентина Пикуля на идею написать одну романтическую новеллу. Добила же меня поездка на Ямал, случившаяся сразу после расстрела российского парламента осенью 1993 года.
Я тогда целых две недели провёл в беседах с ненецкой и хантыйской элитой. Старики переживали, как бы страна не погрузилась в очередную гражданскую войну. Надо было слышать, как они кляли Ельцина с Гайдаром. Потом женщины из ненецкого рода Яптик вспомнили, как в сорок третьем году злые силы столкнули их отцов с властью, спровоцировав в тундре вооружённый бунт, вошедший в историю как мандала. После мандалы молодой историк Валя Вануйто перекинула мостик к ещё более давним событиям – к выступлениям, которые затеял на просторах Ямала в 1830–40-е годы ненецкий бунтарь Ваули из рода Ненянг. Советские историки трактовали эти выступления как вооружённое восстание ненецкой бедноты против царского самодержавия. Но Валя, объехав всё побережье Карского моря, услышала другие сказания, которые утверждали, что Ваули был не идейным борцом, а обыкновенным разбойником. Древние ненецкие предания вернули нас к современности. Мои собеседники вновь заговорили о расстреле Белого дома, уподобив случившуюся в Москве трагедию мандале и разбойным выходкам Ваули. Ничего хорошего от победившей власти ненецкая и хантыйская интеллигенция уже не ждала. Если что национальную элиту Ямала ещё и согревало, это светлые воспоминания о послевоенной учёбе в Ленинграде, где с детьми тундры так много нянчились первые советские североведы, в том числе и Иосиф Иванович Огрызко. Но, к моему большому сожалению, никто из моих собеседников уже не помнил, как сложилась судьба их учителя.
Вернувшись домой, я первым делом собрался послать запрос в Санкт-Петербург, в пединститут имени А.И. Герцена, где мой однофамилец много лет преподавал на факультете народов Севера. Но потом возникли сомнения, на правильном ли я пути. Ведь большая часть архивов Института народов Севера погибла ещё в блокаду. Мне показалось, что скорей я получу помощь в Музее этнографии и антропологии, где отдел народов Севера долгое время возглавлял исследователь чукчей и коряков И.С. Вдовин, тот самый Вдовин, под чьей редакцией И.И. Огрызко выпустил в 1973 году книгу очерков истории сближения коренного и русского населения Камчатки в конце XVII – начале XX века. Но я серьёзно ошибся. Заведующая архивом этого музея И.В. Жуковская сухо ответила: «Огрызко И.И. в Институте этнографии [а музей этнографии и антропологии до распада СССР представлял ленинградское отделение Института этнографии. – В.О. ] не работал». При этом она посоветовала за материалами о других североведах, в частности, о С.Н. Стебницком и Н.Б. Шнакенбурге, обратиться в петербургский архив Российской академии наук. Но вот где ещё могли храниться документы об Огрызко, Жуковская почему-то уточнять не стала.
Потом выяснилось, что с пединститутом я дал маху. Да, многие материалы, относившиеся к Институту народов Севера, не сохранились. Они угодили под немецкие обстрелы ещё в первую блокадную зиму. Но послевоенная часть архива-то уцелела. И значит, какие-то бумаги о моём однофамильце где-то да остались.
В общем, летом 2001 года я напрямую обратился к ректору Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Г.А. Бордовскому. И вот что он мне ответил: «Огрызко Иосиф Иванович родился 30 декабря 1902 года в дер. Волосевичи, Лепельского района, Витебской области (так записано в его автобиографии). По национальности – русский. Родители – крестьяне. В 1911–13 гг. учился в церковно-приходской школе; в 1916–17 гг. – двухклассном волостном училище; в 1917–18 гг. – городском училище и в 1921–23 гг. – в советской трудовой школе II ступени. В 1923 г. командирован учиться в Петроград, в Университет, на факультет общественных наук, который закончил в 1926 г.
Работал руководителем экскурсий в Госэрмитаже и Петергофском дворце, читал лекции по антирелигиозной тематике. С 1929 г. преподавал в Рабочем Антирелигиозном музее. Одновременно, с 1926 по 1929 гг., учился в Институте Агитации им. Володарского. В 1935 г. поступил в аспирантуру при институте Народов Севера. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию, учёное звание доцента присвоено в 1945 г.
1941–42 гг. – зав. кафедрой истории Института Народов Крайнего Севера.
1942–45 гг. – находился в эвакуации: читал курс истории в Московском областном пединституте (Кировская обл.), заведовал кафедрой в Омском пединституте.
1945–53 гг. – работает на факультете Народов Севера в Ленинградском госуниверситете. 1947–52 гг. – зав. кафедрой истории в Ленинградском областном учительском институте.
С 1 октября 1953 г. переведён на кафедру методики преподавания истории в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Организатор кафедры научного атеизма, этики и эстетики. С 10.12.1964 по 01.08.1971 г. – заведующий кафедры научного атеизма.
В июле 1973 года вышел на пенсию, умер в феврале 1982 года (точная дата не выяснена).
Награждён Медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ 1941–45 гг.», «За освоение целинных земель» и другими памятными медалями и грамотами.
Этот ответ уже что-то да значил. Теперь было от чего оттолкнуться.
Со временем мне удалось дополнить полученную от Бордовского справку.
Итак, Иосиф Огрызко начинал как борец с религией. Я не буду сейчас говорить, хорошо это было или плохо. Судя по всему, мой однофамилец, как и тысячи его сверстников, действительно в 1920-е годы, одурманенный разрушительными идеями революции, совершенно искренне верил в то, что вера уже себя изжила. Вопрос заключался в другом: что он понимал под верой – церковные обряды, чувства, состояние души, убеждения или что-то другое. Если бы мы знали правильный ответ, тогда легче было б понять, с чем в реальности боролся выпускник факультета общественных наук Петроградского университета.
Бесспорно одно: в молодые годы Иосиф Огрызко был охвачен революционными порывами. Он не сомневался в том, что сможет переубедить глубинку и настроить её против церкви. Уже в 1931 году у него вышла пропагандистская брошюра «Антирелигиозная работа в жактах», рассчитанная на самых несознательных читателей – домработниц и домохозяек. Потом мой однофамилец с энтузиазмом отправился в провинцию искать крестьян, которые поверили в колхозы и решительно открестились от прежних убеждений. Так, в тридцати километрах от Череповца, в селе Никольское он встретил 53-летнего Николая Константиновича Тревогина . Тот честно признался, что устал жить в страшной нужде. Никакие молитвы ему не помогали. Колхоз стал его последней надеждой. А под Новгородом в Бологовском районе в колхозе «Победа» Иосифа Огрызко познакомили с 56-летним конюхом Василием Дмитриевичем Поливановым . Этот конюх не скрывал, что подался в колхоз из-за зависти. Он никак не мог смириться с тем, что отец у него за всю жизнь даже лошадь себе не заработал, зато монастырские земли по соседству процветали. Пожилому крестьянину внушили, что это несправедливо и что монахов следовало экспроприировать. Ну а третий борец с традициями – 60-летний Максим Никитич Рыбак попался молодому борцу с церковью в Винницкой области. Приукрашенные исповеди трёх пожилых колхозников составили вторую книгу Огрызко «Отходим от религии».
 |
Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба моего однофамильца, но в 1935 году он поступил в аспирантуру Института народов Севера. Что привело его именно в этот вуз, точно установить пока не удалось. Не исключено, что сказалось влияние Владимира Германовича Богораза . Как известно, Богораз был не только выдающимся исследователем чукчей, коряков, эвенов, юкагиров и ительменов. Власть очень ценила его атеистические убеждения. Уже в 1930 году он честно признался в том, что «родился безбожником, вырос язычником, а в настоящее время являюсь безбожником воинствующим». Богораз искренне считал, что религия являлась тормозом социалистического строительства среди малых народностей Севера. Правда, знал ли он, что опубликованная в 1932 году его статья на эту тему стала идеологическим обоснованием для поголовных арестов и последующих расстрелов шаманов? Вполне возможно, что Иосиф Огрызко, активно боровшийся в конце 1920-х – начале 1930-х годов с церковью, периодически брал у Богораза разные консультации, тем более что учёный в 1932 году организовал в Ленинграде новый институт – Музей истории религии. Более того, я допускаю, что как раз Богораз, видя склонность Огрызко к научной работе, и предложил моему однофамильцу подумать о дальнейшей учёбе. Загвоздка заключалась в том, что отвечавший духу Иосифа Огрызко Музей истории религии аспирантуры не имел, а Институт антропологии и этнографии в 1935 году затронула волна массовых арестов. Поэтому Богораз не мог порекомендовать молодому исследователю ничего другого, как относительно благополучный Институт народов Севера. Хотя и там уже начались серьёзные проблемы.
В Институте народов Севера изначально избрали неверную концепцию развития. Но вслух это признала, кажется, лишь молодой этнограф Нина Ивановна Гаген-Торн . «Я искренне верила, – писала она в своих воспоминаниях, – что выдумка Богораза создать в Ленинграде Институт народов Севера и загнать в него наиболее передовую молодёжь из малых народов Севера, чтобы они стали «вожаками в культурном росте своего народа», поистине благая затея. Их надо было завезти в Ленинград, надо было обучать, и ошибка заключалась в том, что это обучение шло недостаточно продуманно, мало считаясь с их особенностями… Людей из отдалённых районов Сибири, из жизни тайги и лесного воздуха привезли в большой город. Закрыли в общежитие, устроенное в Александро-Невской лавре, <…> заставили сидеть на уроках 6 часов. Кормили питанием абсолютно непривычным: кашами, картошкой, щами с очень малым количеством мяса. Они с огромным трудом привыкали к этому режиму и безвылазному сидению на уроках. Я пыталась доказать, что это невероятно жестоко, но Ян Петрович Кошкин (этнограф всё-таки!) считал это естественным процессом. Шли заболевания, отсеивался «неизбежный процент слабосильных». Когда начинали харкать кровью или нервно заболевали – их отправляли обратно».
Однако Иосиф Огрызко, поступив в аспирантуру, поначалу ничего этого не понимал. Первое время он со студентами-северянами почти не соприкасался. Вся жизнь в ту пору вертелась для него в основном вокруг историко-этнографической секции. Там ещё сохранилось определённое влияние Богораза. Но многие рычаги управления постепенно переходили уже в руки сына вологодского крестьянина и создателя первой эвенкийской школы на Подкаменной Тунгуске Аркадия Фёдоровича Анисимова и бывшего костромича, успевшего недолго поработать в эвенкийском окружении на Чумиканской культбазе Николая Николаевича Степанова . Правда, Анисимов и Степанов больше тяготели к этнографии. А Огрызко хотел по примеру другого аспиранта Семёна Окуня, отучившегося в аспирантуре уже два года, заняться по преимуществу чистой историей.
По случайному совпадению в том же 1935 году на работу в Институт народов Севера взяли двух профессоров, которые как историки сформировались ещё до революции, – Александра Игнатьевича Андреева и Сергея Владимировича Бахрушина . Они представляли разные исторические школы. Андреев слыл учеником А.С. Лаппо-Данилевского и в 1920-е годы проявил себя как блестящий археограф, подготовивший к публикации актовые материалы (в частности, сборник грамот коллегии экономии). А Бахрушин учился у В.О. Ключевского и очень рано увлёкся историей Сибири, опубликовав в 1916 году весьма любопытную работу «Туземные легенды» в «Сибирской истории». Но в 1929–30 годах ОГПУ привлекло обоих учёных по одному делу – Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России, главным идеологом которого чекисты объявили академика С.Ф. Платонова . Следствие по этой мифической организации продолжалось девятнадцать месяцев. Бахрушину, кроме всего прочего, инкриминировали то, что он на квартире Платонова посмел обругать главу советской официальной исторической школы Покровского . В общем, именитых историков приговорили к пятилетней ссылке. Платонов был отправлен в Самару, Андреев – в Енисейск, а Бахрушин – в Семипалатинск. Платонов вскоре, не выдержав свалившихся на него испытаний, умер. Власть после этого дрогнула и в 1933–34 годах разрешила коллегам академика досрочно вернуться домой.
Бахрушин рассчитывал, что продолжит читать лекции в Московском университете. Но академическое начальство взяло паузу. И учёный от безысходности вернулся к своим сибирским материалам. Когда-то братья Сабашниковы пытались его уговорить подготовить очерки заселения Сибири с конца пятнадцатого до двадцатого века. Но он до ареста успел проследить движение русского населения за Урал лишь до начала восемнадцатого столетия и, кроме того, изучил положение коренных народов Сибири в шестнадцатом и семнадцатом столетиях. Учёный отказался от понимания присоединения Сибири как военного захвата территорий и выдвинул свою концепцию торгово-промыслового освоения Сибири. Хотя он не скрывал, что колонизация привнесла в жизнь местных племён не только прогресс, но и ряд негативных факторов. Он с сожалением отмечал: «Русские занесли в завоёванные страны оспу, тиф, сифилис, приучили дикарей к алкоголю и табаку, захватили их охотничьи угодья и способствовали тем обнищанию и вымиранию наименее приспособленных к борьбе за существование рас. Таковыми оказались палеоазиатские племена, кочевавшие в бесплодных северных тундрах, юкагиры, чуванцы, коряки».
Свою новую монографию учёный закончил к началу 1935 года. Однако в Москве она никого не заинтересовала (все столичные институты и издатели продолжали бояться Бахрушина как огня). Выручил исследователя Сибири его ленинградский коллега Андреев. Он договорился, чтобы Бахрушина по совместительству взяли в Институт народов Севера. Кстати, я не исключаю, что Андреев, когда добивался в Ленинграде места для своего подельника по мифическому союзу борьбы за возрождение свободной России, преследовал и собственные цели. Он ведь до ареста так и не успел защитить докторскую диссертацию, а потом многие его былые союзники разбежались в разные стороны, заняв выжидательную позицию, и вся надежда осталась на Бахрушина.
Надо сказать, что Бахрушин не подвёл своего коллегу. Он, хорошо зная московские и ленинградские архивы, увлёк Андреева, имевшего блестящую археологическую подготовку, разбором портфелей Г.Ф. Миллера, итогом чего явилось издание первых двух томов «Истории Сибири» Миллера, и материалами Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, в частности, дневником С.Вакселя . Потом сидение в архивах подсказало Андрееву идею монографии по источниковедению Сибири, которая в конечном счёте и стала его докторской диссертацией. (Правда, в последний момент защита чуть не сорвалась. Буквально за три недели до назначенного заседания учёного совета милиция потребовала, чтобы учёный в срок до 23 сентября 1940 года покинул Ленинград в силу своей неблагонадёжности. Андреев попросил разъяснений. Оказалось, что чекисты обнаружили в деле 1929 года «дополнительный» протокол, свидетельствовавший об антисоветских настроениях историка. Узнав о претензиях спецслужб, академическое начальство уже хотело докторскую диссертацию Андреева с защиты снять. Но тут вмешался Бахрушин. Его-то в отличие от Андреева власти уже год как окончательно простили, и он, имея индульгенцию, смело пошёл к чекистам отстаивать своего коллегу. Больше того, Бахрушин выступил на учёном совета в роли официального оппонента Андреева, где заметил: «Обычно диссертант… не без некоторого опасения ожидает выступления своих оппонентов. Я боюсь, что в данном случае оппонентам приходится быть очень осторожными в своих выступлениях, поскольку никогда не знаешь, какой новый источник извлёк Александр Игнатьевич из архивных фондов, какой источник он привлёк на случай нашего диспута и как он сумеет отразить те возражения, которые будут ему сделаны. Это является результатом совершенно исключительного знания им архивных фондов».)
 |
Повезло и аспирантам Бахрушина. Учёный хотел, чтобы они продолжили его сибирские изыскания и проследили, как сложились быт и культура хантов и манси после семнадцатого столетия. Так, Иосифу Огрызко он предложил заняться преимущественно восемнадцатым веком, а А.И. Мурзиной остановиться на событиях рубежа XVIII–XIX веков. Зная о том, что Огрызко раньше боролся с религией, историк особо обратил внимание своего ученика на вопросы преодоления в местах расселения народов Севера язычества и прихода христианства.
Как я понимаю, мой однофамилец с энтузиазмом взялся за разработку совершенно новой для себя темы. Перед ним встали четыре главных вопроса.
1. Почему русские цари запретили крещение сибирских язычников в XVII веке?
2. Что заставило светскую власть сделать в начале восемнадцатого столетия крутой поворот в этом вопросе и в сравнительно короткий срок подвергнуть таёжные племена всеобщему крещению?
3. В какой мере привилась на Тобольском Севере новая религия?
4. Какое влияние оказало крещение на общественный быт и культуру народов Сибири?
Увы, существовавшая литература ни на один из этих вопросов исчерпывающих ответов не давала. Она выражала либо точку зрения миссионеров, осуществлявших на Тобольском Севере процесс христианизации, либо позицию апологетов церкви, но ни то, ни другое Иосифа Огрызко совершенно не устраивало. Обследование ленинградских архивов оказалось куда полезней. Наиболее интересные материалы содержались в неопубликованной рукописи сына солдата Семёновского полка Василия Фёдоровича Зуева «Описание остяков и самоедов», анкетах русского энциклопедиста Василия Никитича Татищева и портфеле Герарда Фридриха Миллера, но они были выявлены и частично описаны ещё до Огрызко. Другое дело, что ученик Бахрушина смог на какие-то документы взглянуть по-новому и дать свою интерпретацию. Но главные открытия Иосифа Огрызко ждали в Тобольске. Там в фондах Тобольской духовной консистории он обнаружил челобитные новокрещённых хантыйских и мансийских охотников, показания оленеводов на церковных судах, обращения невежественных миссионеров к сибирскому митрополиту.
Но пока Огрызко искал в Тобольске архивные материалы, в Институте народов Севера, который так и не вышел из серьёзного кризиса, начались классовые, кадровые и прочие чистки. Первым пострадал директор института Ян Петрович Алькор (Кошкин), придумавший в конце 20-х годов для бесписьменных таёжных и тундровых племён единый северный алфавит. Его обвинили в том числе в насаждении якобы чуждой латиницы. Среди тех, кто дал на руководителя института показания, был первый юкагирский писатель и учёный Тэки Одулок (Николай Спиридонов), позже расстрелянный как японский шпион. После Алькора (Кошкина) экзекуции подверглись все языковедческие кафедры. Комиссары в пыльных шлемах объявили беспощадную войну всем североведам, осмелившимся возразить против перевода письменности народов Севера с латиницы на кириллицу.
Следующими на очереди были, видимо, специалисты по экономической географии и историки. В начале 1938 года чекисты арестовали заведующего историко-этнографической секцией Аркадия Анисимова. Правда, ровно через полгода они признали свою ошибку и выпустили учёного на свободу. Тогда же стало ясно, что новый директор института Ареф Минеев мог только комиссарить, но он ни черта не смыслил в вопросах экономики и культуры Севера. Власть, кажется, поняла, что очередного Папанина, привыкшего орудовать лишь маузером, институт не выдержит. Поэтому летом 1938 года на пост директора был выдвинут профессиональный этнограф Николай Ковязин, только что защитивший кандидатскую диссертацию о традиционном хозяйстве эвенков. К чести нового руководителя, он горой встал на защиту остатков старой профессуры, в том числе Михаила Сергеева, Сергея Бахрушина и Александра Андреева.
Потом, правда, говорили, что свою роль сыграла изменившаяся геополитическая ситуация. Дело в том, что перед войной на Западе появились работы, в которых правомерность присоединения Сибири к России в средневековые времена была поставлена под сомнение. Власть потребовала, чтобы наши учёные срочно подготовили обоснованные опровержения. Особенно большие надежды возлагались на научную школу Бахрушина. Не случайно лидера этой школы – Бахрушина в 1939 году избрали член-корреспондентом Академии наук СССР.
Надо сказать, что учёный к тому времени сильно изменился. Да, он значительно расширил тематику своих исследований. Для него приоритетом стало изучение проблем феодализма в России. Высокое начальство заказало ему новый учебник по дореволюционной истории. Но близость к верхам приучила историка к осторожности. Не случайно в его работах появились ссылки на Маркса, Ленина и Сталина .
Впрочем, полностью от Сибири Бахрушин открещиваться не спешил. Он продолжал периодически выступать с докладами на локальные темы. В частности, в 1938 году учёный включился в Институте истории в дискуссию о хозяйственном и общественном строе якутов в XVII–XVIII веках, подвергнув резкой критике концепцию Сергея Токарева, который утверждал, что у якутов сформировался рабовладельческий строй. Но в основном его вклад в сибироведение в предвоенные годы свёлся к поддержке старых приятелей и своих аспирантов.
О помощи Бахрушина Андрееву (особенно в плане издания работ Г.Ф. Миллера) я уже говорил. Но учёный много сделал и для моего однофамильца.
На защиту кандидатской диссертации «Христианизация народов Тобольского Севера в XVIII в.» Иосиф Огрызко вышел в 1940 году. Вслед за своим учителем ученик Бахрушина утверждал, что усиление позиций России в Сибири в восемнадцатом веке в целом было благом как для русского народа, так и для малочисленных этносов Севера. Да и христианизация имела куда больше положительных моментов, нежели отрицательных. Другое дело, оговаривался историк, что методы осуществления христианизации зачастую были далеки от совершенства. Главная беда заключалась в том, что миссионеры, проводившие в начале XVIII века на Тобольском Севере крещение хантов и манси, не знали местных языков и обычаев. Ставка делалась на толмачей, которые, как правило, выхолащивали суть молитв, сводя в глазах аборигенов сакральные православные обряды к непонятным спектаклям.
Я бы в заслугу Огрызко поставил ещё то, что он, будучи в Сибири, зафиксировал у хантов и манси целый ряд языческих обрядов. Но, к сожалению, роль этнографа и бытописателя моего однофамильца не устроила. Он решил сопроводить свои наблюдения комментариями политического плана. А это у него получилось плохо. Историк не выдержал высокий заданный уровень и опустился до вульгарных оценок, причислив шаманов к классовым врагам и объявив языческие обряды религиозными пережитками.
Но в целом Огрызко проделал огромную и важную работу. Это потом отметил и его учитель Бахрушин. Выступая в 1947 году на конференции североведов в Ленинградском университете, Бахрушин заявил: «В настоящее время мы имеем исследования по истории целого ряда северных народов. По истории хантов и манси имеется моя небольшая работа «Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв.» и ценные исследования И.И. Огрызко и А.И. Мурзиной».
Сразу после защиты Иосифу Огрызко предложили диссертацию выпустить отдельным изданием. Его книга «Христианизация народов Тобольского Севера в XVIII в.» была подписана в печать 19 марта 1941 года. А через три месяца началась война.
Первую военную зиму Огрызко провёл в блокаде. Историк быстро сдал, сильно ослабел и в истощённом состоянии при первой возможности был вывезен с остатками Института народов Севера (здание которого в Ленинграде отдали под эвакогоспитель № 1170) сначала в Киров, а затем переправлен в Омск. Но стоило ему чуть восстановиться, он тут же поспешил в местные архивы искать материалы по освоению Севера в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях.
В Сибири Огрызко написал также статью «Народы Севера в Великой Отечественной войне», которая была опубликована в 1944 году в четвёртой книге «Омского альманаха».
 |
После возвращения из эвакуации перед учёным встал вопрос, чем заняться ему дальше. Его учитель Бахрушин, став в войну за участие в коллективном труде «История дипломатии» лауреатом Сталинской премии, в Ленинград уже почти не приезжал и углубился в основном в изучение актов феодального землевладения, датированных четырнадцатым-шестнадцатым веками. Хотя Север он тоже не забывал и иногда даже выступал с докладами об основных линиях истории обских угров. Ещё в войну осел в Москве и другой преподаватель Института народов Севера – Андреев (ему предложили в историко-архивном институте возглавить кафедру вспомогательных исторических дисциплин). Ещё один бывший коллега Огрызко по Институту народов Севера – Семён Окунь, защитивший перед войной докторскую диссертацию по сибирской российско-американской компании, после победы переключился главным образом уже на декабристов.
Поразмыслив, Иосиф Огрызко для дальнейших исследований выбрал Камчатку и Курилы, история которых к 1945 году состояла в основном из одних «белых» пятен. Так, учёные долго не могли разобраться даже в вопросе, кто открыл Камчатку. Академик Л.С. Берг, к примеру, настаивал на том, что приоритет в этом деле следовало отдать Владимиру Атласову . Но его позиция вызывала серьёзные сомнения у профессоров В.Ю. Визе и А.В. Ефимова .
Чтобы понять, кто прав, Огрызко решил ещё раз изучить в архиве Академии наук СССР портфели Миллера и прежде всего челобитные Семёна Дежнёва (их Миллер обнаружил в 1736 году в Якутске), чья экспедиция, как считалось, в 1648 году обогнула северо-восток Азии. И что же выяснилось? Как оказалось, главным организатором морского похода был вовсе не Дежнёв, а Федот Алексеев . Это он предложил из Устья Колымы на семи кочах отправиться «для прииску новых неясачных людей» морем сначала до реки Анадырь, а потом и «на иные на сторонные реки». Но в пути случилось несколько бурь. Одна из них накрыла путешественников ещё до подхода к соединяющему Северный Ледовитый и Тихий океан проливу, выбросив два коча на берег. Другой удар стихии обрушился на оставшихся мореходов уже в проливе. Новая буря полностью поглотила коч Герасима Анкудинова, два других с Дежнёвым прибила к берегам Чукотки и ещё два с Федотом Алексеевым отнесла в сторону Камчатки. Добравшись до земли, Алексеев построил два зимовья на реке Камчатке и потом, по одним рассказам камчадалов, дошедших спустя годы до Степана Крашенинникова, «на другое лето, обшед Курилскую лопатку, дошёл Пенжинским морем до реки Тигиля, и от тамошних коряк убит зимою со всеми товарищи», а по другим свидетельствам, и в первую очередь якутской жены Алексеева, умер во время длительного перехода по полуострову от цинги.
На основе выявленных в портфелях Миллера материалов Огрызко сделал следующие выводы:
«1. Экспедиция Дежнёва не только открыла пролив, отделяющий Азию от Америки. В том же 1648 г. часть этой экспедиции достигла Камчатки.
2. Благодаря экспедиции Дежнёва–Алексеева о Камчатке стало известно как в России, так и в Западной Европе. Иными словами, мы имеем дело с фактом открытия Камчатки.
3. Честь открытия Камчатки принадлежит не Владимиру Атласову, а Федоту Алексееву, вступившему на камчатскую землю за 49 лет до Атласова, т. е. ровно 300 лет назад – осенью 1648 г.
4. Беринг, направляясь в Первую Камчатскую экспедицию и находясь летом 1726 г. в Якутске, держал в своих руках доношение атласовского казака Ивана Козыревского, где прямо было сказано, что «в прошлых годах из Якуцка города морем на кочах были на Камчатке люди». Иными словами, датчанин на русской службе Витус Беринг знал, что пролив, который он ехал открывать, задолго до него уже был открыт русскими людьми, проплывшими из Ледовитого океана морем до самой Камчатки».
Эти выводы легли в основу первой статьи Огрызко из камчатского цикла «Экспедиция Семёна Дежнёва и открытие Камчатки», которая была опубликована в декабрьском номере «Вестника Ленинградского университета» за 1948 год.
Ещё в процессе работы над историей открытия Камчатки Огрызко столкнулся с фигурой Ивана Козыревского . Случилось это в 1946 году. Перебирая в Центральном госархиве древних актов в Москве собрание Миллера, он неожиданно обнаружил неизвестный чертёж Камчатки, а также чертёж Курил и доношение, которое было датировано шестым августа 1726 года и позднее вручено находившемуся в Якутске Витусу Берингу. Авторство всех этих трёх документов принадлежало арестованному участнику экспедиции Владимира Атласова – Ивану Петровичу Козыревскому. Находясь в якутской тюрьме, он слёзно просил Беринга помочь ему освободиться из заключения.
Естественно, Огрызко захотелось поподробней узнать, кем же был этот Козыревский. Но в исторической литературе о нём почти ничего не говорилось. Только у Берга он был назван авантюристом и тёмной личностью. Но соответствовало ли это правде?
 |
Огрызко провёл собственное расследование. По архивным документам он выяснил, что Козыревский стоял у истоков открытия Курил. Учёный утверждал, что в 1711 году Козыревский в числе первых русских людей «побывал на Курильских островах. В 1713 г. он организовал и провёл экспедицию на первый и второй Курильские острова, присоединив к России второй Курильский остров – Парамушир. Его перу принадлежат первые карты Курильских островов и первое всестороннее описание этих отдалённых и тогда вовсе неизведанных земель. Данные, собранные Козыревским о Курильских островах, были широко использованы и Берингом, и Миллером, и Крашенинниковым, и Сгибневым . Только благодаря русским мореходам, и в особенности Козыревскому, русская и западноевропейская наука получила точные сведения о Курильских островах».
В конце своей жизни Козыревский, не сумев выйти из устья реки Лены в океан, вернулся после крушения в Москву и принял монашество, продолжая вынашивать мечту об экспедиции на Камчатку для христианизации камчадал. Но ему аукнулись грехи молодости. Царедворцы обвинили его в причастности к бунту казаков против Владимира Атласова, случившемуся ещё в 1711 году. Он был лишён монашеского звания и брошен в тюрьму, где и скончался в 1734 году. Однако для Иосифа Огрызко Козыревский остался «одним из выдающихся русских мореплавателей и исследователей Севера, которому русская и западноевропейская наука обязана первыми точными и при этом всесторонними сведениями о неизведанных до того Курильских островах». Ему историк посвятил свою вторую статью из камчатского цикла – «Открытие Курильских островов», напечатанную в 1953 году в 157-м выпуске «Учёных записок ЛГУ».
А завершило этот цикл подробное жизнеописание Владимира Атласова, которого Пушкин по праву считал «камчатским Ермаком». Оно было опубликовано в 1957 году в малотиражных учёных записках Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена.
Из этих трёх статей Огрызко хотел составить книгу об открытии Камчатки и Курил, которая должна была стать основой его докторской диссертации. Но в 1953 году произошло слияние факультетов народов Севера, которые до этого существовали в Ленинградском университете и в Ленинградском пединституте им. А.И. Герцена. Обучение северян отошло в ведение пединститута. Соответственно были объединены и две кафедры истории СССР.
В ходе этих реорганизаций позиции Огрызко в институте почему-то существенно ослабли. По одной из версий, у него охладели отношения с Николаем Степановым, который попытался оставить за собой объединённую кафедру истории. Якобы Степанов воспользовался ситуацией, чтобы отыграться на учениках Бахрушина. Как известно, Степанов не до конца принял изданную в 1935 году бахрушинскую монографию о обско-угорских князьках и позволил себе ряд критических выпадов в журнале «Советская этнография», из-за чего защиту его кандидатской диссертации будто бы надолго отложили. Вожделенное звание кандидата наук ему дали только в ташкентской эвакуации в 1943 году. Злые языки утверждали: мол, пока Бахрушин был жив, Степанов терпел, а как его не стало, он всех учеников великого историка, занимавшихся народами Севера, начал притеснять, в том числе моего однофамильца, А.И. Мурзину и Ивана Ильича Селиверстова (он защитился по дореволюционной истории якутов и потом куда-то исчез).
Но я думаю, главное зло для Огрызко исходило всё-таки не от Степанова. Со Степановым у него были лишь мелкие разногласия. У моего однофамильца, судя по всему, имелись противники куда посерьёзней и повлиятельней.
Похоже, ему аукнулось приятельство с Андреевым. Их научные интересы пересеклись ещё до войны. Напомню, перед самой войной Андреев выпустил «Очерки по источниковедению Сибири: XVII век», а Огрызко издал монографию о христианизации народов Тобольского Севера. Так вот, Андреев, помимо всего прочего, тогда же подготовил к печати на 48 машинописных страницах «Материалы по истории и этнографии народов Тобольского Севера в XVI–XVIII в.», которые представляли собой обзор новых, выявленных в архивах документов о ненцах, хантах и манси. Огрызко планировал использовать эти материалы при написании своей следующей монографии. Вновь пути двух исследователей пересеклись после войны. Андреев, основательно изучив архивы Г.Ф. Миллера, ещё в 1941 году планировал к 200-летию со дня смерти Витуса Беринга составить сборник документов Камчатских экспедиций этого путешественника. Но вплотную за реализацию этой идеи он взялся только после Победы. На Камчатке сосредоточился после войны и Огрызко. Однако злопыхатели не дремали. Из-за них Андреева в 1946 году прокатили на выборах в член-корреспонденты Академии наук СССР. Они убедили партийное начальство, что иметь в академиках сразу двух плохо управляемых сибироведов – Бахрушина и Андреева – это уже слишком.
Атака на Андреева продолжилась осенью 1947 года. Донесла на него профессор Е.Н. Данилова . Учёного обвинили в поклонении перед западной наукой, в «лапподаниловщине и в игнорировании трудов Сталина и Ленина». Руководство Московского историко-архивного института потребовало от историка покаяния. Но он в ответ заявил, что его начальство безграмотно. От нового ареста Андреева спас новый курс Сталина, призвавший учёных внимательней отнестись в свете охлаждения отношений с США к истории Русской Америки. Но вожди были не вечны. Пришедшие после смерти Сталина следующие лидеры историю как науку воспринимали уже иначе. Возобладали уже другие тенденции, во многом отрицавшие приоритеты России в изучении Севера и Сибири.
 |
Понятно, что на этом фоне были предприняты все усилия, чтобы замолчать в том числе и статьи Огрызко о первооткрывателях Камчатки и Курил. Благо историк сам «подставился»: он, презрев неписаные правила, ни разу в своём камчатском цикле не упомянул ни Сталина, ни Ленина, а также полностью обошёлся без ссылок на постановления партии и правительства. А так идеологию и, в частности, историю у нас ещё с довоенных лет делать было не принято. Однако более всего полуграмотных партийных комиссаров от науки не устраивало даже не то, что Огрызко внаглую игнорировал классиков марксизма-ленинизма. Они были взбешены тем, как учёный твёрдо и аргументированно отстаивал приоритеты русских мореплавателей в открытии, изучении и освоении Камчатки и большей части Курил.
Не вытерпев унижений, Огрызко осенью 1953 года попросился на другую кафедру – методики преподавания истории.
Публично в то трудное время ученика Бахрушина поддержал лишь Сергей Марков . Это был поэт большого дарования, исколесивший в молодости половину Урала, весь Северный Казахстан и большую часть Западной Сибири. Его очень ценил Максим Горький . Но ему никогда не верили партийные комиссары. Окололитературная публика постоянно распускала слухи, будто он – сын белого генерала и что многие произведения украл у своего младшего брата Василия. Потом Маркову поставили в вину преклонение перед вражеским бароном Унгерном . В конце концов его в 1932 году арестовали по делу о так называемой сибирской бригаде поэтов и сослали к поморам в село Мезень. Ему после всего обрушившегося на него хотя бы на время угомониться, а он, будучи в ссылке, загоревшись идеей похода по русскому северу, зарылся в местные архивы и обнаружил неизвестные материалы, датированные восемнадцатым веком, об освоении русскими мореплавателями американского побережья. Эти материалы впоследствии положили начало тихоокеанской картотеке Маркова.
Так вот, поэт Марков в 1950–70-е годы не раз в своих работах отмечал, что пока он оформлял тихоокеанскую картотеку в книгу, «из печати вышло замечательное исследование И.И. Огрызко «Открытие Курильских островов» («Учёные записки Ленинградского государственного университета». Серия факультета народов Севера, вып. 2, № 157, 1953, с. 166–207). В этой статье приведено много новых данных о Козыревском. Между стр. 202 и 203 впервые помещена очень чёткая фотокопия «Чертежа Камчадальского носу и морским островам» (Центральный государственный архив древних актов, «Портфели Миллера», № 533, тетр. 2), а в приложении приведены надписи, сделанные рукой Козыревского на этом чертеже, состоящем из двух частей. Чертёж имеет вид бумажного «складня», разделённого на восемь долей. На левом берегу р. Камчатки прямо против устья реки Федотовщины помещена знаменательная надпись: «В прошлых годех из Якуцка города морем на кочах были на Камчатке люди. А которые у них в аманатах сидели, те камчадалы и сказывали. А в наши годы с оных стариков ясак брали. Два коча сказывали. И зимовья знать и доныне». Это свидетельство о спутниках Дежнёва. И.И. Огрызко посвятил им ещё одну свою работу – «Экспедиция Семёна Дежнёва и открытие Камчатки» в «Вестнике Ленинградского университета», 1948, № 12. Ссылаясь на А.Сгибнева, И.И. Огрызко утверждает, что в 1656 году и Михайло Стадухин совершил плавание мимо Курильских островов» (С.Н. Марков. Земной круг. М., 1966).
И только после Маркова камчатские статьи Огрызко стали обильно цитировать уже все ведущие советские исследователи Сибири, в том числе А.И. Алексеев, Б.П. Полевой и Л.А. Гольденберг . (Правда, Алексеев, когда заматерел, почему-то при переиздании собственных очерков, касавшихся Курил, уже пересказывал материалы о Козыревском без каких-либо ссылок на своего менее титулованного коллегу.)
Очень долго Огрызко удручал тот факт, что, занимаясь Камчаткой, он никак не мог добиться от родного института даже короткой командировки на этот полуостров. Навстречу ему пошли лишь в 1958 году.
За одно лето Огрызко проделал тогда объём работы, который иные его именитые коллеги не могли осуществить за десятилетия. Во-первых, он восстановил чёткую картину расселения ительменов и коряков на Камчатке на конец семнадцатого столетия, подсчитав численность этих народов на тот момент. Во-вторых, учёный записал воспоминания старых ительменов, которые не успели обрусеть и сохранили представления о дохристианских верованиях своего народа. И, в-третьих, он своими глазами увидел, как сближение коренного и русского населения Камчатки сказалось на экономике полуострова.
Вернувшись с Камчатки, Огрызко с энтузиазмом вернулся к работе над докторской диссертацией и взялся за новую монографию. Но вскоре выяснилось, что защищаться ему было негде. На факультете народов Севера в родном институте до него никому никакого дела не оказалось. Там большая часть преподавательского состава схлестнулась друг с другом за место под солнцем. Группа интриганов продавила в кресло декана специалиста по чукотскому фольклору Льва Беликова, который быстро довёл факультет до предынфарктного состояния. Не всё просто складывалось и в Ленинградском отделении Института этнографии. Старая гвардия там быстро съела (и не подавилась) завотделом Сибири Аркадия Анисимова. Его место очень захотел занять Иннокентий Вдовин. Но для этого ему надо было сначала защитить докторскую диссертацию. Боясь конкуренции, Вдовин объявил войну другим североведам. Свои войны велись и в Музее этнографии народов СССР. Там, в частности, перекрыли кислород специалисту по ительменам Елизавете Орловой . Ей дали понять, что докторскую диссертацию она в Ленинграде никогда не защитит. От безысходности исследовательница в начале 60-х годов вынуждена была переехать в Новосибирск к Окладникову . Но тот оказался всего лишь мастером больших обещаний и тоже на защиту свою подчинённую так и не выпустил.
Удручённый околонаучными сварами, Иосиф Огрызко не знал, куда податься. Тем временем партийное руководство приняло решение во всех педвузах страны ввести обязательный курс основ научного атеизма. Не видя никаких перспектив на кафедре методики преподавания истории, Огрызко в 1964 году выступил с идеей создать в родном институте новую кафедру – научного атеизма, этики и эстетики. И ему хоть в этом пошли навстречу. Но дважды в одну воду не входят. То, что Огрызко легко давалось в конце 1920 – начале 1930-х годов, спустя три десятилетия вызывало лишь досаду. Ничего нового сказать в плане борьбы с религией он уже не мог. Максимум на что его хватило – обобщить опыт нескольких ленинградских школ. Но к настоящей науке это никакого отношения не имело.
Ближе к семидесятилетию Огрызко, не дожидаясь намёков, сам подал заявление об отставке. Единственное, о чём он попросил своё руководство, – дать ему возможность издать к своему юбилею монографию «Очерки сближения коренного и русского населения Камчатки (конец XVIII–ХХ веков)». Так во всём институте не нашлось человека, который взялся бы написать для издателей толковую внутреннюю рецензию.
Огрызко хотел, чтобы редактором его книги стал профессор Ленинградского университета Владимир Мавродин . Но в издательстве сказали, что Мавродин – блестящий знаток Петра Первого, но никак не Камчатки. И учёному навязали Вдовина. Но это уже был не тот Вдовин, которого помнил Огрызко по совместной довоенной работе в Институте народов Севера. Тихий и скромный учитель чукотского и корякского языков превратился в академического вельможу, возомнившего, что лучше его историю и этнографию Камчатки и Чукотки никто не знает. Он почему-то упорно возражал против перевода на русский язык изданной в Америке монографии Владимира Богораза о чукчах и очень не хотел, чтобы у нас напечатали архивные материалы по корякам погибшего в войну Сергея Стебницкого. Свою позицию Вдовин обосновывал тем, что, мол, без его комментариев Богораза и Стебницкого не понять, а времени на обстоятельные пояснения к текстам Богораза и Стебницкого у учёного нет. Скорей всего, Вдовин просто лукавил. Ведь если Богораза и Стебницкого опубликовали бы ещё в 1960-е годы, его монографии о чукчах и коряках на этом фоне выглядели бы очень тускло.
К сожалению, ни один научный журнал на книгу Огрызко не откликнулся. Хотя все историки её заметили и обильно цитировали в своих трудах. Учёного это, конечно, задело. Но он ничего поделать не мог.
После выхода на пенсию Иосиф Огрызко больше с историческими работами нигде не публиковался. Умер он в 1982 году. Что стало с его архивом по Тобольскому Северу и Камчатке, пока неизвестно.
В заключение отмечу, что исторические материалы учёного до сих пор востребованы. На них продолжают ссылаться многие учёные. Одно из подтверждений этого – изданная в 2000 году энциклопедия «Мифология хантов».
Если кто располагает материалами о моём однофамильце или может что-то дополнить и уточнить, прошу откликнуться.
11 ноября родился Степан Петрович Крашенинников (1711-1755) русский учёный-ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки.
С.П. Крашенинников известен в науке как один из первых энтузиастов географического познания нашей страны.
Крашенинников родился в Москве в бедной семье солдата армии Петра I. В тринадцать лет он был зачислен в Славяно-греколатинскую академию.
Научная карьера С. П. Крашенинникова сложилась сравнительно благоприятно. В конце 1732 г. в академию пришло распоряжение Правительствующего сената направить в Академию Наук двенадцать лучших учеников. В числе их оказался и Крашенинников, получивший самую высокую оценку на экзамене. Назначенный во Вторую камчатскую экспедицию под начальством Беринга, студент Академии Крашенинников в августе 1733 г. выехал в далекий путь.
Экспедиция долго колесила по сибирскому бездорожью. Из Тобольска она поднялась вверх по Иртышу до Усть-Каменогорска и через Колыванский завод проследовала до Томска, а оттуда через Красноярск в Иркутск, на Байкал и в Забайкалье. Во время этой поездки в течение 4 лет Крашенинников работал под руководством академиков Гмелина и Миллера. В Якутске оба академика решили послать вместо себя на Камчатку Крашенинникова.
Снабженный подробными инструкциями, Крашенинников покинул Якутск 5 июля 1737 г. За 45 дней он преодолел более 1000 км пути от Якутска до Охотска, и 4 октября на судне «Фортуна» отплыл на Камчатку. Корабль во время плавания дал такую течь, что для спасения судна с него выбросили в море около 400 пудов груза. В устье Большой речки «Фортуна» была выброшена прибоем на берег Камчатки. Там на песчаной кошке Крашенинников со спутниками жил в течение нескольких дней в постоянном страхе, что очередной морской прилив погубит всех. Только 21 октября прибыла помощь.
Началась полная лишений трудовая жизнь на Камчатке. Крашенинников вел наблюдения за погодой, за приливами и отливами, за деятельностью вулканов, собирал сведения об образе жизни обитающих на Камчатке животных и птиц, составлял списки растущих на полуострове деревьев и трав. Инструкциями поручалось собирать и этнографические сведения о народах, обитающих на Камчатке, а также материал по истории Камчатки со времени появления на ней русских. Крашенин-ников составил первый курильско (т. е. айнско)-русский словарь. Он побывал на крайнем юге полуострова, вблизи реки Озерной; несколько раз совершал поездки вдоль охотского и тихоокеанского побережий Камчатки, пересек ее несколько раз по долинам рек. Из устья реки Камчатки он совершил поездку по побережью Тихого океана к Петропавловской гавани, открыв в долине реки Паужетки гейзеры.
О том, в каких тяжелых условиях Крашенинникову приходилось работать, свидетельствуют его многочисленные рапорты Академии, в которых молодой исследователь сообщал, что, лишенный регулярной выдачи жалованья и провианта, он поставлен «в невыносимое положение, отощал и оборвался до того, что и в люди стыдно показаться». Предоставленный самому себе, Крашенинников проделал работу, равной которой не было после того на протяжении более 100 лет.
12 июня 1741 г. Крашенинников, сдав все материалы и коллекции прибывшему на Камчатку адъюнкту Академии Наук Георгу Стеллеру, покинул Камчатку.
Еще почти полтора года Крашенинникову пришлось провести в поездках по Сибири, сопровождая Гмелина и Миллера, и только в. феврале 1743 г. он снова увидел берега Невы.
В 1750 г. С. П. Крашенинников стал профессором Академии «по кафедре истории натуральной и ботанике», ректором академического университета и гимназии.
С. П. Крашенинников умер 25 февраля 1755 г., за неделю до смерти подписав к печати последние корректурные листы «Описания земли Камчатки». Научные достоинства этой книги очень высоки. Наблюдения, легшие в основу ее, отличаются изумительной точностью. Крашенинников создал труд, исключительный для своего времени по полноте и достоверности. Вплоть до начала XX в. «Описание» оставалось едва ли не единственным источником сведений о природе, истории, этнографии и экономике далекой окраины Русского государства.
Русские первопроходцы на Камчатке
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая.
(Старинная казачья песня)
Когда русские люди добрались до Камчатки? Точно этого до сих пор никто не знает. Но абсолютно ясно, что произошло это в середине XVII в. Ранее мы уже рассказывали об экспедиции Попова—Дежнева в 1648 г., когда впервые русские кочи прошли из Ледовитого моря в Восточный океан. Из семи кочей, вышедших из устья Колымы на восток, пять погибли в пути. Шестой коч Дежнева выбросило на побережье значительно южнее устья Анадыря. А вот судьба седьмого коча, на котором находился Федор Попов с женой-якуткой и подобранный с погибшего в проливе между Азией и Америкой коча казак Герасим Анкидинов, точно неизвестна.
Самое раннее свидетельство о судьбе Федора Алексеева Попова и его спутников находим в отписке С. И. Дежнева воеводе Ивану Акинфову, датированной 1655 г.: «А в прошлом 162 году (1654 г. — М.Ц.) ходил я, Семейка, возле моря в поход. И отгромил… у коряков якутскую бабу Федота Алексеева. И та баба сказывала, что-де Федот и служилый человек Герасим (Анкидинов. — М.Ц.) померли цингою, а иные товарищи побиты, и остались невеликие люди, и побежали с одною душою (то есть налегке, без припасов и снаряжения. — М.Ц.), не знаю-де куда
» (18, с. 296).
Авачинская сопка на Камчатке
Отсюда следует, что Попов и Анкидинов погибли, вероятнее всего, на берегу, куда они высадились либо куда выбросило коч. Скорее всего, это было где-то значительно южнее устья р. Анадырь, на Олюторском берегу или уже на северовосточном побережье Камчатки, так как захватить в плен жену-якутку коряки могли только в этих районах побережья.
Академик Г.Ф. Миллер, который первым из историков тщательно изучил документы Якутского воеводского архива и нашел там подлинные отписки и челобитные Семена Дежнева, по которым восстановил в возможной мере историю этого знаменательного плавания, в 1737 г. написал «Известия о Северном морском ходе из устья Лены реки ради обретания восточных стран». В этом сочинении о судьбе Федора Алексеева Попова сказано следующее: «Между тем построенные (Дежневым в основанном им Анадырском зимовье. — М.Ц.) кочи были к тому годны, что лежащие около устья Анадыря реки проведать можно было, при котором случае Дешнев в 1654-м году наехал на имеющиеся у моря коряцкие жилища, ис которых все мужики с лутчими своими женами увидя русских людей убежали; а протчих баб и ребят оставили; Дешнев нашол между сими якуцкую бабу, которая прежде того жила у вышеобъявленного Федота Алексеева; и та баба сказала, что Федотово судно разбило близь того места, а сам Федот поживши там несколько времени цынгою умер, а товарыши ево иные от коряков убиты, а иные в лодках неведомо куды убежали. Сюды приличествует носящейся между жительми на Камчатке слух, который от всякого, кто там бывал подтверждается, а именно сказывают, что за много де лет до приезду Володимера Отласова на Камчатку, жил там некто Федотов сын на реке Камчатке на устье речки, которая и ныне по нем Федотовкою называется, и прижил де с камчадалкою детей, которые де потом у Пенжинской губы, куды они с Камчатки реки перешли, от коряков побиты. Оной Федотов сын по всему виду был сын вышепомянутого Федота Алексеева, который по смерти отца своего, как товарыщи его от коряков побиты, убежал в лодке подле берегу и поселился на реке Камчатке; и еще в 1728-м году в бытность господина капитана командора Беринга на Камчатке видны были признаки двух зимовей, в которых оной Федотов сын с своими товарищами жил» (41, с.260).

коряки
Сведения о Федоре Попове привел и известный исследователь Камчатки, также работавший в составе академического отряда экспедиции Беринга, Степан Петрович Крашенинников (1711-1755).

Степан Петрович Крашешинников
Он путешествовал по Камчатке в 1737-1741 гг. и в своем труде «Описание Земли Камчатки» отметил: «Но кто первый из русских людей был на Камчатке, о том я не имею достоверных сведений и лишь знаю, что молва приписывает это торговому человеку Федору Алексееву, по имени которого впадающая в р. Камчатка речка Никуля называется Федотовщиной. Рассказывают, будто бы Алексеев, отправившись на семи кочах по Ледовитому океану из устья р. Ковыми (Колымы. — М.Ц.), во время бури был заброшен со своим кочем на Камчатку, где перезимовав, на другое лето обогнул Курильскую Лопатку (самый южный мыс полуострова — мыс Лопатка. — М.Ц.) и дошел морем до Тигеля (р. Тигиль, устье которой расположено у 58° с. ш. Вероятнее всего, он мог добраться до устья р. Тигиль с восточного побережья полуострова по суше. — М.Ц.), где тамошними коряками был убит зимой (видимо, зимой 1649-1650 гг. — М.Ц.) со всеми товарищами. При этом рассказывают, что к убийству они сами дали повод, когда один из них другого зарезал, ибо коряки, считавшие людей, владеющих огнестрельным оружием, бессмертными, видя, что они умирать могут, не захотели жить со страшными соседями и всех их (видимо, 17 человек. — М.Ц.) перебили» (35, с.740, 749).

корякские воины
По мнению Крашенинникова, именно Ф. А. Попов первым из русских зимовал на земле Камчатки, первым побывал на ее восточном и западном побережье. Крашенинников, ссылаясь на приведенное выше сообщение Дежнева, предполагает, что Ф. А. Попов с товарищами погиб все же не на р. Тигиль, а на побережье между Анадырским и Олюторским заливами, пытаясь пройти к устью р. Анадырь.
Определенным подтверждением пребывания Попова с товарищами или других русских первопроходцев на Камчатке является то, что за четверть века до Крашенинникова об остатках двух зимовий на р. Федотовщине, поставленных русскими казаками или промышленниками, сообщил в 1726 г. первый русский исследователь Северных Курильских островов, бывавший на р. Камчатке с 1703 по 1720 г. есаул Иван Козыревский: «В прошлых годех из Якуцка города на кочах были на Камчатке люди. А которых у них в аманатах сидели, те камчадалы сказывали. А в наши годы с оных стариков ясак брали. Два коча сказывали. И зимовья знать и поныне» (18, с. 295; 33, с.35).

Из приведенных разновременных (XVII-XVIII вв.) и довольно отличных по смыслу показаний можно все же с большой долей вероятности утверждать, что появились русские первопроходцы на Камчатке в середине XVII в. Возможно, это был не Федот Алексеев Попов с товарищами, не его сын, а другие казаки и промышленники. По этому поводу однозначного мнения у современных историков нет. Но то, что первые русские появились на полуострове Камчатка уже не позднее начала 50-х гг. XVII в., считается несомненным фактом.
Вопрос о первых русских на Камчатке детально исследовал историк Б. П. Полевой. В 1961 г. ему удалось обнаружить челобитную казачьего десятника И. М. Рубца, в которой он упомянул о своем походе «вверх реки Камчатки». Позже изучение архивных документов позволило Б. П. Полевому утверждать, «что Рубец и его спутники смогли провести свою зимовку 1662-1663 гг. в верховьях р. Камчатки» (33, с.35). Он относит к Рубцу и его товарищам и сообщение И. Козыревского, которое упомянуто выше.

Камчадалы



В атласе тобольского картографа С. У. Ремезова, работу над которым он закончил в начале 1701 г., на «Чертеже земли Якутцкого города» был изображен и полуостров Камчатка, на северо-западном берегу которого у устья р. Воемля (от корякского названия «Уэмлян» — «ломаная»), то есть у современной р. Лесной было изображено зимовье и рядом дана надпись: «Р. Воемля. Тут Федотовское зимовье бывало». По сообщению Б. П. Полевого, лишь в середине ХХ в. удалось выяснить, что «Федотов сын» — это беглый колымский казак Леонтий Федотов сын, который бежал на р. Блудную (теперь р. Омолон), откуда перешел на р. Пенжину, где в начале 60-х гг. ХVІІ в. вместе с промышленником Сероглазом (Шароглазом) некоторое время держал под своим контролем низовье реки. Позже он ушел на западный берег Камчатки, где и поселился на р. Воемле. Там он контролировал переход через самую узкую часть Северной Камчатки с р. Лесной (р. Воемли) на р. Карагу. Правда, данных о пребывании Леонтия «Федотова сына» на р. Камчатке Б. П. Полевой не приводит. Возможно, у И. Козыревского сведения об обоих «Федотовых сыновьях» и слились вместе. Тем более что по документам в отряде Рубца сбором ясака ведал целовальник Федор Лаптев.
Подтверждаются сведения С. П. Крашенникова о пребывании на Камчатке участника похода Дежнева «Фомы Кочевщика». Оказалось, что в походе Рубца «вверх реки Камчатки» участвовал Фома Семенов Пермяк, по кличке «Медведь» или «Старик». Он приплыл с Дежневым на Анадырь в 1648 г., потом неоднократно ходил по Анадырю, с 1652 г. занимался добычей моржовой кости на открытой Дежневым Анадырской корге. А оттуда осенью 1662 г. он пошел с Рубцом на р. Камчатку.
Нашел подтверждение и рассказ Крашенинникова о распрях среди русских казаков из-за женщин в районе верховьев Камчатки. Позже анадырские казаки упрекали Ивана Рубца в том, что он во время дальнего похода «с двумя бабами… всегда был… в беззаконстве и в потехе и с служилыми и торговыми и с охочьими и с промышленными людьми не в совете о бабах» (33, с.37).
Сведения Миллера, Крашенинникова, Козыревского о пребывании первых русских на Камчатке могли относиться и к другим казакам и промышленникам. Б. П. Полевой писал, что известие о лежбищах моржей на побережье южной части Берингова моря было получено впервые от казаков группы Федора Алексеева Чюкичева — Ивана Иванова Камчатого, ходившей на Камчатку из зимовья в верховьях Гижиги через северный перешеек с р. Лесной на р. Карагу «на другую сторону» (33, с. 38). В 1661 г. вся группа погибла на р. Омолон при возвращении на Колыму. Их убийцы — юкагиры бежали на юг.
 воины юкагиры
воины юкагиры
Отсюда, возможно, исходят рассказы об убийстве русских, возвращавшихся с Камчатки, о которых упоминает Крашенинников.
Полуостров Камчатка получил свое название от р. Камчатки, пересекающей его с юго-запада на северо-восток. А название реки, по авторитетному мнению историка Б. П. Полевого, с которым соглашается большинство ученых, связано с именем енисейского казака Ивана Иванова Камчатого, который упоминулся ранее.


река Камчатка
В 1658 и 1659 гг. Камчатый дважды из зимовья на р. Гижиге проследовал на юг для разведывания новых земель. По Б. П. Полевому, он, вероятно, прошел западным берегом Камчатки до р. Лесной, впадающей в залив Шелихова у 59° 30 с.ш. и по р. Караге достиг Карагинского залива. Там же были собраны сведения о наличии большой реки где-то на юге.
В следущем году из Гижигинского зимовья вышел отряд из 12 человек во главе с казаком Федором Алексеевым Чюкичевым. В составе отряда был и И. И. Камчатый. Отряд перешел на Пенжину и проследовал на юг, на реку, впоследствии названную Камчаткой. Возвратились казаки на Гижигу только в 1661 г.
Любопытно, что по прозвищу Ивана Камчатого получили одинаковое название «Камчатка» две реки: первая — в середине 1650-х гг. в системе р. Индигирки — один из притоков Падерихи (теперь р. Бодяриха), вторая — в самом конце 1650-х гг. — крупнейшая река совсем еще малоизвестного в то время полуострова. А сам этот полуостров стали именовать Камчаткой уже в 90-х г. ХVІІ в. (33, с.38).


корякский шаман
На «Чертеже Сибирская земля», составленном по указу царя Алексея Михайловича в 1667 г. под руководством стольника и тобольского воеводы Петра Ивановича Годунова, была впервые показана р. Камчатка. На чертеже река впадала в море на востоке Сибири между Леной и Амуром и путь к ней от Лены морем был свободен. Правда, на чертеже не было даже намека на Камчатский полуостров.
В Тобольске в 1672 г. был составлен новый, несколько более подробный «Чертеж Сибирские Земли». К нему был приложен «Список с чертежа», который содержал указание на Чукотку, и в нем впервые упоминаются реки Анадырь и Камчатка: «… а против устья Камчатки реки вышол из моря столп каменной, высок без меры, а на нем никто не бывал» (28, с.27), то есть не только указано название реки, но и даны некоторые сведения о рельефе в районе устья.
В 1663-1665 гг. упоминавшийся ранее казак И.М. Рубец служил приказчиком в Анадырском остроге. Историки И. П. Магидович и В. И. Магидович считают, что именно по его данным течение р. Камчатки, в верховьях которой он зимовал в 1662-1663 гг., на общем чертеже Сибири, составленном в 1684 г., указано довольно реалистично.
Сведения о р. Камчатке и внутренних районах Камчатки были известны в Якутске задолго до походов якутского казака Владимира Васильевича Атласова, этого, по словам Александра Сергеевича Пушкина, «камчатского Ермака» , который в 1697-1699 гг. фактически присоединил полуостров к Российскому государству. Об этом свидетельствуют документы Якутской приказной избы за 1685-1686 гг.

В них сообщается, что в эти годы был открыт заговор казаков и служилых людей Якутского острога. Заговорщикам ставилось в вину то, что они хотели «побить до смерти» стольника и воеводу Петра Петровича Зиновьева и градских жителей, «животы их пограбить», а также «пограбить» торговых и промышленных людей на гостином дворе.
Кроме того, заговорщиков обвиняли в том, что они хотели захватить в Якутском остроге пороховую и свинцовую казну и бежать за «Нос», на реки Анадырь и Камчатку. Значит, казаки-заговорщики в Якутске уже знали о Камчатке и собирались бежать на полуостров, по-видимому, морским путем, о чем свидетельствуют планы «бежать за нос», то есть за полуостров Чукотка или восточный мыс Чукотки — мыс Дежнева, а не «за Камень», то есть за хребет — водораздел между реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, и реками, текущими в дальневосточные моря (29, с.66).
В начале 90-х гг. XVII в. начались походы казаков из Анадырского острога на юг для проведывания «новых землиц» на Камчатском полуострове.


Анадырский острог

В 1691 г. оттуда отправился на юг отряд из 57 человек во главе с якутским казаком Лукой Семеновым Старицыным, по прозвищу Морозко, и казаком Иваном Васильевым Голыгиным. Отряд прошел по северо-западному, а может быть и по северо-восточному побережьям Камчатки и к весне 1692 г. возвратился в Анадырский острог.
В 1693-1694 гг. Морозко и Голыгин с 20-ю казаками вновь направились на юг и, «не дойдя до Камчатки-реки один день», повернули на север. На р. Опуке (Апуке), которая берет начало на Олюторском хребте и впадает в Олюторский залив, в местах обитания «оленных» коряков они построили первое в этой части полуострова русское зимовье, оставив в нем для охраны взятых у местных коряков аманатов-заложников двух казаков и толмача Никиту Ворыпаева (10, с.186).
С их слов не позднее 1696 г. была составлена «скаска», в которой дано первое, дошедшее до наших дней сообщение о камчадалах (ительменах): «Железо у них не родится, и руды плавить не умеют. А остроги имеют пространны. А жилища… имеют в тех острогах — зимою в земли, а летом… над теми же зимними юртами наверху на столбах, подобно лабазам… А промежду острогами… ходу дни по два и по три и по пяти и шести дней… Иноземцы оленные (коряки. — М.Ц.) называются, у коих олени есть. А у которых оленей нет, и те называются иноземцы сидячи… Оленные же честнейши почитаются» (40, с.73).

.jpg)

В августе 1695 г. из Якутска был послан в Анадырский острог с сотней казаков новый приказчик (начальник острога) пятидесятник Владимир Васильевич Атласов. В следующем году он направил на юг к приморским корякам отряд из 16 человек под командой Луки Морозко, который проник на полуостров Камчатка до р. Тигиль, где встретил первый поселок камчадалов. Именно там Морозко увидел неведомые японские письмена (видимо, попали туда с прибитого штормом к камчатским берегам японского судна), собрал сведения о Камчатском полуострове, протянувшемся далеко на юг, и о гряде островов южнее полуострова, то есть о Курильских островах.
В начале зимы 1697 г. в зимний поход против камчадалов направился на оленях отряд из 120 человек, во главе которого стал сам В. В. Атласов. Отряд состоял наполовину из русских, служилых и промышленных людей, наполовину из ясачных юкагиров и прибыл на Пенжину через 2,5 недели. Там казаки собрали с пеших (то есть оседлых, не имеющих оленей коряков, которых было свыше трехсот душ, ясак красными лисицами. Атласов прошел по восточному берегу Пенжинской губы до 60° с.ш., а затем повернул на восток и через горы добрался до устья р. Олюторы, впадающей в Олюторский залив Берингова моря. Там были объясачены коряки-олюторцы, никогда ранее не видавшие русских. Xотя неподалеку в горах водились белые соболи (так названы потому, что их мех не так темен, как у сибирских), но олюторцы их не промышляли «потому что в соболях, — по словам Атласова, — они ничего не знают».
Затем Атласов послал половину отряда на юг вдоль восточного побережья полуострова. Д. и. н. М. И. Белов заметил, что по неточному сообщению С. П. Крашенинникова этой партией командовал Лука Морозко. Но последний в это время был в Анадырском остроге, где после ухода Атласова в поход оставался за него приказчиком острога. В походе Атласова могли принять участие оставленные на Камчатке Морозкой казаки и толмач Никита Ворыпаев, а не он сам (10, с.186, 187).
Сам Атласов с основным отрядом возвратился к побережью Охотского моря и направился вдоль западного побережья Камчатки. Но в это время часть юкагиров отряда восстала: «На Палане реке великому государю изменили, и за ним Володимером (Атласовым. — М.Ц.) пришли и обошли со всех сторон, и почали из луков стрелять и 3 человек казаков убили, и его Володимера во шти (шести. — М.Ц.) местех ранили, и служилых и промышленных людей переранили». Атласов с казаками, выбрав удобное место сел в «осад». Он послал верного юкагира известить посланный на юг отряд о случившемся. «И те служилые люди к нам пришли и из осады выручили»— сообщал он впоследствии (32, с.41).
Далее он прошел вверх по р. Тигиль до Серединного хребта, перевалил его, выйдя в июне-июле 1697 г. к устью р. Канучи (Чаныч), впадающей в р. Камчатки. Там был водружен крест с надписью: «В 205 году (1697 г. — М.Ц.) июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи», сохранившийся до прихода в эти места через 40 лет С. П. Крашенинникова (42, с.41).Оставив здесь своих оленей, Атласов со служилыми людьми и с ясачными юкагирами и камчадалами «сели в струги и поплыли по Камчатке реке на низ».


Присоединение к отряду Атласова части камчадалов объяснялось борьбой между различными туземными родами и группами. Объясаченные камчадалы с верховьев р. Камчатки просили Атласова помочь им против их же сородичей с низовьев реки, которые нападали на них и грабили их селения.
Отряд Атласова плыл «три дни», объясачивая местных камчадалов и «громя» непокорившихся. Атласов послал разведчика к устью р. Камчатки и убедился в том, что долина реки была сравнительно густо заселена — на участке длиною около 150 км было до 160 камчадальских острогов, в каждом из которых проживало до 200 человек.
Затем отряд Атласова возвратился вверх по р. Камчатке. Перевалив через Серединный хребет и обнаружив, что коряки угнали оставленных Атласовым оленей, казаки пустились в погоню. Отбить оленей удалось после жестокого боя уже на побережье Охотского моря, во время которого пало около 150 коряков.
Атласов вновь спустился по побережью Охотского моря к югу, шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая ясак со встречавшихся по пути камчадалов. Он достиг р. Ичи и продвинулся еще далее к югу. Ученые полагают, что Атласов доходил до р. Нынгучу, переименованной в р. Голыгину, по имени потерявшегося там казака (устье р. Голыгиной рядом с устьем р. Опалы) или даже несколько южнее. До южной оконечности Камчатки оставалось всего около 100 км.
На Опале жили камчадалы, а на р. Голыгиной русские встретили уже первых «курильских мужиков — шесть острогов, а людей в них многое число». Курилы, жившие на юге Камчатки, это айны — обитатели Курильских островов, смешавшиеся с камчадалами. Так что именно р. Голыгину имел в виду сам Атласов, сообщая, что «против первой Курильской реки на море видел как бы остров есть» (42, с.69).
Несомненно, что с р. Голыгиной, под 52°10 с. ш. Атласов мог видеть самый северный остров Курильской гряды— Алаид (теперь о. Атласова), на котором расположен вулкан того же имени, самый высокий на Курильских островах (2330 м) (43, с.133).

остров Атласова
Вернувшись оттуда на р. Ичу и поставив там зимовье, Атласов отправил на р. Камчатку отряд из 15 служилых людей и 13 юкагиров во главе с казаком Потапом Сердюковым.
.jpg)
зимовье
Сердюков с казаками провели в заложенном Атласовым Верхнекамчатском остроге в верховьях р. Камчатки три года.

Верхнекамчатский острог
Оставшиеся с Атласовым «подали ему за своими руками челобитную, чтоб им с той Игиреки итти в Анадырский острог, потому что у них пороху и свинцу нет, служить не с чем» (42, с.41). 2июля 1699 г. отряд Атласова в составе 15 казаков и 4 юкагиров возвратился на Анадырь, доставив туда ясачную казну: 330 соболей, 191 красную лисицу, 10 лисиц сиводущатых (нечто среднее между красной и чернобурой), парку (одежду) соболью. В числе собранных мехов было и 10 шкур морских бобров (каланов) и 7 лоскутов бобровых, до того не известных русским.
В Анадырский острог Атласов привез камчадальского «князца» и повез его в Москву, но в Кайгородском уезде на р. Каме «иноземец» умер от оспы.
Поздней весной 1700 г. Атласов добрался с собранным ясаком до Якутска. По снятии с него допросов «скасок» Атласов выехал в Москву. По пути в Тобольске со «скасками» Атласова познакомился известный сибирский картограф сын боярский Семен Ульянович Ремезов. Историки считают, что картограф встречался с Атласовым и с его помощью составил один из первых детальных чертежей полуострова Камчатка.
В феврале 1701 г. в Москве Атласов представил в Сибирский приказ свои «скаски», которые содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и их ледовом режиме, и, естественно, массу сведений о коренных жителях полуострова.
Интересно, что именно Атласов сообщил и некоторые сведения о Курильских островах и Японии, собранные им у жителей южной части полуострова — курильчан.
Атласов описал местных жителей, с которыми встретился во время похода по полуострову: «А на Пенжине живут коряки пустобородые, лицом русаковаты, ростом средние, говорят своим особым языком, а веры никакой нет, а есть у них их же братья-шеманы: вышеманят о чем им надобно, бьют в бубны и кричат. А одежду и обувь носят оленью, а подошвы нерпичьи. А едят рыбу и всякого зверя и нерпу. А юрты у них оленьи и ровдушные (замшевые, выделываемые из оленьих шкур. — М.Ц.).

коряки
А за теми коряками живут иноземцы люторцы (олюторцы. — М.Ц.), а язык и во всем подобие коряцкое, а юрты у них земляные подобные остяцким юртам. А за теми люторцы живут по рекам камчадалы возрастом (ростом. — М.Ц.) невелики с бородами средними, лицом походят на зырян (коми. — М.Ц.). Одежду носят соболью и лисью и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние земляные, а летние на столбах, вышиною от земли сажени по три (примерно 5-6 м. — М.Ц.), намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. И юрты от юрт поблиску, а в одном месте юрт ста по 2, и по 3, и по 4.



А питаются рыбою и зверем, а едят рыбу сырую, мерзлую, а в зиму рыбу запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею, а та рыба изноет, и тое рыбу, вынимая, кладут в колоды и воду нагревают и ту рыбу с тою водою размешивают и пьют, а от тое рыбы исходит смрадный дух, что русскому человеку по нужде терпеть мочно.

А посуду деревянную и глиненые горшки делают те камчадальцы сами, а иная посуда у них есть левкашенная и олифляная, а сказывают оне, что идет к ним с острова, а под каким государством тот остров того не ведают» (42, с.42, 43). Академик Л. С. Берг полагал, что речь шла, «очевидно, о японской лаковой посуде, которая из Японии попадала сначала к дальним курильцам, потом к ближним, а эти привозили ее в южную Камчатку» (43, с.66, 67).
Атласов сообщил о наличии у камчадал больших байдар длиною до 6 сажен (около 13 м), шириною 1,5 сажени (3,2 м), вмещавших по 20-40 человек.

Отметил он особенности родового строя у них, специфику хозяйственной деятельности: «Державство великого над собою не имеют, только кто у них в котором роду богатее, того больше и почитают. И род на род войною ходят и дерутся». «А в бою временем бывают смелы, а в иное время плохи и торопливы». Оборонялись они в острожках, бросая из них во врагов камни из пращ и руками. Острожками казаки называли камчадальские «юрты», то есть землянки, укрепленные земляным валом и частоколом.

Такие укрепления камчадалы стали сооружать только после появления на полуострове казаков и промышленников.
Атласов рассказал, как казаки беспощадно расправлялись с непокорными «иноземцами»: «И к тем острожкам руские люди приступают из-за щитов и острог зажигают, и станут против ворот, где им (иноземцам. — М.Ц.) бегать, и в тех воротах многих из иноземцев-противников побивают. А те острожки сделаны земляные, и к тем руские люди приступают и разрывают землю копьем, а иноземцам на острог взойти из пищалей не допустят» (43, с.68).
Рассказывая о боевых возможностях местных жителей, Атласов отметил: «… огненного ружья гораздо боятся и называют русских людей огненными людьми… и против огненного ружья стоять не могут, бегут назад. И на бои выходят зимою камчадальцы на лыжах, а коряки оленные на нартах: один правит, а другой из лука стреляет.
А летом на бои выходят пешком, наги, а иные и в одежде» (42, сс. 44, 45). «А ружья у них — луки усовые китовые, стрелы каменные и костяные, а железа у них не родится» (40, с.74).
Об особенностях семейного уклада у камчадалов он сообщает: «а жен имеют всяк по своей мочи — по одной, и по 2, и по 3, и по 4». «А веры никакой нет, только одне шаманы, а у тех шаманов различье с иными иноземцы: носят волосы долги». Переводчиками у Атласова были коряки, жившие у казаков некоторое время и освоившие азы русского языка. «А скота никакова у них (камчадалов. — М.Ц.) нет, только одни собаки, величиною против здешних (то есть одинаковы со здешними в Якутске. — М.Ц.), только мохнаты гораздо, шерсть на них длиною в четверть аршина (18 см. — М.Ц.)». «А соболей промышляют кулемами (особыми ловушками. — М.Ц.) у рек, где рыбы бывает много, а иных соболей на деревье стреляют» (42, с.43).
Атласов оценивал возможность распространения хлебопашества в Камчатской земле и перспективы торгового обмена с камчадалами: «А в Камчадальской и в Курильской земле хлеб пахать мочно, потому что места теплые и земли черные и мягкие, только скота нет и пахать не на чем, а иноземцы ничего сеять не знают» (43, с.76). «А товары к ним надобны: адекуй лазоревый (голубой бисер. — М.Ц.), ножи». А в другом месте «скаски» прибавляет: «… железо, ножи и топоры и пальмы (широкие железные ножи. — М.Ц.), потому что у них железо не родится. А у них против того брать соболи, лисицы, бобры большие (видимо, морские бобры. — М.Ц.), выдры».
Значительное внимание в своем отчете Атласов уделил природе Камчатки, ее вулканам, флоре, фауне, климату. О последнем он сообщил: «А зима в Камчатской земле тепла против московского, а снеги бывают небольшие, а в Курильских иноземцах (то есть на юге полуострова. — М.Ц.) снег бывает меньши. А солнце на Камчатке зимою бывает в день долго против Якуцкого блиско вдвое. А летом в Курилах солнце ходит прямо против человеческой головы и тени против солнца от человека не бывает» (43, с.70, 71). Последнее утверждение Атласова вообще-то неверно, потому что даже на самом юге Камчатки солнце никогда не поднимается выше 62,5° над горизонтом.
Именно Атласов сообщил впервые о двух крупнейших вулканах Камчатки — Ключевской сопке и Толбачике и вообще о камчатских вулканах: «А от устья итти вверх по Камчатке реке неделю есть гора, подобна хлебному скирду, велика и гораздо высока, а другая близ ее ж подобна сенному стогу и высока гораздо, из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево. А сказывают камчадалы, буде человек взойдет до половины тое горы, и там слышат великий шум и гром, что человеку терпеть невозможно. А выше половины той горы которые люди всходили, назад не вышли, а что там людям учинилось — не ведают» (42, с.47).

«А из под тех гор вышла река ключевая, в ней вода зелена, а в той воде, как бросят копейку, видеть в глубину сажени на три».


Уделил Атласов внимание и описанию ледового режима у побережья и в реках полуострова: «А на море около люторов (то есть олюторов. — М.Ц.) зимою лед ходит, а все море не мерзнет. А против Камчатки (реки. — М.Ц.) на море лед бывает ли, не ведает. А летом на том море льду ничего не бывает». «А по другую сторону той Камчадальской земли на море зимою льду не бывает, только от Пенжины реки до Кыгылу
(Тягиля. — М.Ц.) на берегах лед бывает небольшой, а от Кыгылу вдаль ничего льду не бывает. А от Кыгыла реки до устья ходу бывает скорым ходом пешком до Камчатки реки, через камень то есть через горы. — М.Ц.), в 3-й и в 4-й день. А Камчаткою на низ плыть в лотке до моря 4 дни. А подле моря медведей и волков много». «А руды серебреные и иные какие есть ли, того не ведает и руд никаких не знает» (43, с.71, 72).
Описывая леса на Камчатке, Атласов отмечал: «А деревья ростут — кедры малые, величиною против мозжевельнику, а орехи на них есть. А березнику, лиственичнику, ельнику на Камчадальской стороне много, а на Пенжинской стороне по рекам березник да осинник». Перечислил он и встречающиеся там ягоды: «А в Камчатской и в Курильской земле ягоды — брусница, черемха, жимолость — величиною меньши изюму и сладка против изюму» (43, с.72, 74).

Поражает его наблюдательность и дотошность при описании неизвестных ранее русским ягод, трав, кустарников, зверей. Например: «А есть трава, иноземцы называют агататка, вышиною ростет в колено, прутиком, и иноземцы тое траву рвут и кожицу счищают, а середину переплетают таловыми лыками и сушат на солнце, и как высохнет, будет бела и тое траву едят, вкусом сладка, а как тое траву изомнет, и станет бела и сладка, что сахар» (43, с.73). Из травы агататка — «сладкой травы» местные жители добывали сахар, а казаки приспособились впоследствии гнать из нее вино.
Особо отметил Атласов наличие у берегов Камчатки важных для промысла морских зверей и красной рыбы: «А в море бывают киты великие, нерпа, каланы, и те каланы выходят на берег по большой воде, а как вода убудет, и каланы остаются на земле и их копьями колют и по носу палками бьют, а бежать те каланы и не могут, потому что ноги у них самые малые, а берега дресвяные, крепкие (из мелких камней с острыми краями. — М.Ц.)» (43, с.76).

каланы
Особо отметил он ход на нерест рыб из породы лососевых: «А рыба в тех реках в Камчатской земле морская, породою особая, походит она на семгу, и летом красна, а величиною больши семги, а иноземцы (камчадалы. — М.Ц.) ее называют овечиною (чавыча, у камчадалов човуича, самая лучшая и самая крупная из камчатских проходных, то есть из входящих из моря в реки для икрометания рыб. — М.Ц.). И иных рыб много — 7 родов розных, а на русские рыбы не походят. И идет той рыбы на море по тем рекам гораздо много и назад та рыбы в море не возвращается, а помирает в тех реках и в заводях. И для той рыбы держится по тем рекам зверь — соболи, лисицы, выдры» (43, с.74).

Отметил Атласов наличие на Камчатке, особенно в южной части полуострова, множества птиц. В его «скасках» говорится и о сезонных перелетах камчатских пернатых: «А в Курильской земле (на юге полуострова Камчатка. — М.Ц.) зимою у моря птиц-уток и чаек много, а по ржавцам (болотам. — М.Ц.) лебедей многож, потому что те ржавцы зимою не мерзнут. А летом те птицы отлетают, а остаетца их малое число, потому что летом от солнца бывает гораздо тепло, и дожди и громы большие и молния бывает почасту. И чает он, что та земля гораздо подалась на полдень (на юг. — М.Ц.)» (43, с. 75). Атласов так точно описал флору и фауну Камчатки, что впоследствии ученые легко установили точные научные наименования всех отмеченных им видов животных и растений.

В завершение приведем меткую и емкую, на наш взгляд, характеристику «камчатского Ермака», которую ему дал академик Л. С. Берг: «Атласов представляет собой личность совершенно исключительную. Человек малообразованный, он вместе с тем обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания его, как увидим далее, заключают массу ценнейших этнографических и вообще географических данных. Ни один из сибирских землепроходцев XVII и начала XVIII в., не исключая и самого Беринга, не дает таких содержательных отчетов. А о моральном облике Атласова можно судить по следующему. Пожалованный после покорения Камчатки (1697-1699) в награду казачьим головой и посланный снова на Камчатку для довершения своего предприятия, он на пути из Москвы в Камчатку решился на крайне предерзостное дело: будучи в августе 1701 г. на реке Верхней Тунгуске, он разграбил следовавшие на судах купеческие товары. За это, несмотря на заслуги, был посажен, после пытки, в тюрьму, где просидел до 1707 года, когда был прощен и снова отправлен приказчиком на Камчатку.В результате бунтов, интриг и «разборок» к осени 1710 года на Камчатке сложилась очень непростая обстановка. Здесь, на мало освоенной территории, в окружении мирных и немирных местных племён и преступных группировок из казаков и «лихих людей», оказалось сразу три приказчика: Владимир Атласов, формально ещё не отрешённый от должности, Пётр Чириков и вновь назначенный Осип Липин . В январе 1711 года казаки подняли бунт, Липина убили, а Чирикова, связав, бросили в прорубь. Затем бунтовщики бросились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова. Как писал об этом А.С. Пушкин, «…не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он его читать… Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак !..»
Трагически завершился земной путь этого незаурядного человека, присоединившего к Российской державе Камчатку, равную по площади Федеративной Республике Германии, Австрии и Бельгии вместе взятых.

Владимир Васильевич Атласов